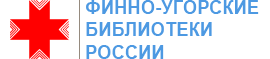
Новости
10/11/2025 «У Гальяни иль Кольони...»
9 ноября встречей «У Гальяни или Кольони…» завершился литературно-краеведческий проект «Неизвестная Тверь» актёра и режиссёра, просветителя, аккредитованного экскурсовода, художественного руководителя АРТотеки «Берёзовый сказ» Алексея Зинатулина и библиотеки. Речь шла о знаменитой гостинице Гальяни в городском пространстве Твери и в поэтическом измерении русской литературы. Звучало и знаменитое шутливое послание А. С. Пушкина к С. А. Соболевскому, и стихи других русских поэтов, а к ним – развёрнутый историко-литературный комментарий.
Предлагаем познакомиться с отзывом одного из зрителей:
«Сумерки на тракте, тёплый прямоугольник окна, пар самовара и гул голосов. Здесь останавливались новости и судьбы, шуршали карты, звенели бильярдные шары.
 В такой картинке родилась премьера литературной композиции — пятая встреча «Неизвестной Твери», литературно-краеведческого проекта Тверской областной библиотеки им. А. М. Горького и АРТотеки «Берёзовый сказ». Идея и воплощение — Алексей Зинатулин: актёр и режиссёр, художественный руководитель АРТотеки. Его артистичность и эрудиция задали тон — доверительно, ясно, без пафоса.
В такой картинке родилась премьера литературной композиции — пятая встреча «Неизвестной Твери», литературно-краеведческого проекта Тверской областной библиотеки им. А. М. Горького и АРТотеки «Берёзовый сказ». Идея и воплощение — Алексей Зинатулин: актёр и режиссёр, художественный руководитель АРТотеки. Его артистичность и эрудиция задали тон — доверительно, ясно, без пафоса.
Повод — строка из письма Пушкина к С. Соболевскому (9 ноября 1826): «У Гальяни иль Кольони…». Слышится итальянская нота; по оценке, речь о трактирщиках на Московско‑Петербургском тракте. В письме — пульс пути: усталость, поломанные колёса, дорожные мелочи, из которых вырастает литература.
Здесь проступает сверхзадача вечера. Показать, что город — это текст, который можно читать: по окнам и меню, по правилам карточных игр, по дорожной шутке и по одной пушкинской строке. Вернуть классике живую интонацию, связать Тверь с русской поэзией и научить вниманию к деталям — от гастрономических до философских.
Гостиница противопоставлена дому. Дом — уклад и приватность; гостиница — публичность, блеск, временность. Следов почти не остаётся — разве подпись в трактирной книге или визитка за зеркалом. Но в этой «пороговости» и ценность: чужое окно делает мысли яснее. На пару дней человек покупает не только кров и еду, но и свободу от рутины.
 Архитектура даёт голос месту: крупные окна, эркеры, эффектные детали — чтобы гостиница читалась с дороги. Тверской трактир Гальяни перестраивали, делая его одним из самых нарядных на тракте. Рядом, на Скорбященской, — ранний ампир с четырьмя белыми колоннами; удачные приёмы разошлись по улочке. Конкретика возвращает не в «эпоху вообще», а в живую ткань города.
Архитектура даёт голос месту: крупные окна, эркеры, эффектные детали — чтобы гостиница читалась с дороги. Тверской трактир Гальяни перестраивали, делая его одним из самых нарядных на тракте. Рядом, на Скорбященской, — ранний ампир с четырьмя белыми колоннами; удачные приёмы разошлись по улочке. Конкретика возвращает не в «эпоху вообще», а в живую ткань города.
Программа постоя XIX века узнаваема: двор для лошадей, общая зала, номера и обязательно трактир — сперва накормить, потом уложить спать. Потому в путевых записках мелькают адреса и блюда: пожарские из Торжка, рябчики, местная рыба, даже пармезан. Тверь, по воспоминаниям, ассоциировалась с яичницей «с пармезаном» у Гальяни и мадерой «в карете» — такие штрихи пристёгивают память.
Гостиница — и центр новостей. Музыка, бильярд, карты. На стенах — предостережения: «в банк» не играть (банк — азартная игра с крупными ставками). Вице‑бостон — разновидность бостона; играли за ломберными столами. Порядок сдерживал азарт, а трактирные книги фиксировали имена и даты.
 А между постоями — дорога на несколько суток: ямские станции, смены упряжи, укатанная колея. Лошадей кормили, чистили, ковали, лечили — без этого движение вставало. Паузы рождают куплеты и заметки — простые и меткие. Быт не скрывает острых углов: клопы, складные кровати из медных трубок, блюдца с водой под ножками, непромокаемые чемоданы — чтобы сделать номер терпимым.
А между постоями — дорога на несколько суток: ямские станции, смены упряжи, укатанная колея. Лошадей кормили, чистили, ковали, лечили — без этого движение вставало. Паузы рождают куплеты и заметки — простые и меткие. Быт не скрывает острых углов: клопы, складные кровати из медных трубок, блюдца с водой под ножками, непромокаемые чемоданы — чтобы сделать номер терпимым.
К адресам примыкают имена. Дом на углу Рыбацкой и Скорбященской связывают с Иваном Лажечниковым. В Твери служил вице‑губернатором М. Е. Салтыков‑Щедрин — снимал квартиру, вглядывался в провинциальный порядок. Звучит и итальянская ассоциация — от Фердинандо Галиани XVIII века до герценианских героев: остроумных, ироничных. Из радищевского круга — тема «дорожной любви»: будто сокращает путь, но легко отнимает деньги и привычку к порядку. Дорога учит выбирать.
Финал — тихий и точный. Где теперь тот Гальяни, встречавший и провожавший? Многое стирается — как звук, затихающий в пустом зале. Но память держится — в книгах, табличках, легендах. И в стихах: «Нет, весь я не умру…». Ценность этой лекции — в мягком расширении кругозора и в практическом навыке «читать» город. Она делает любопытство устойчивым: после такого вечера хочется вернуться на улицу — и посмотреть внимательнее».
Владимир Ендовицкий